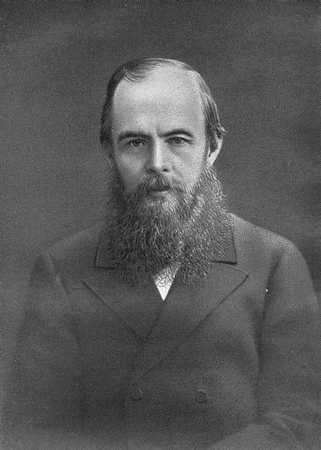Раздел II
ПЕРСОНАЖИ
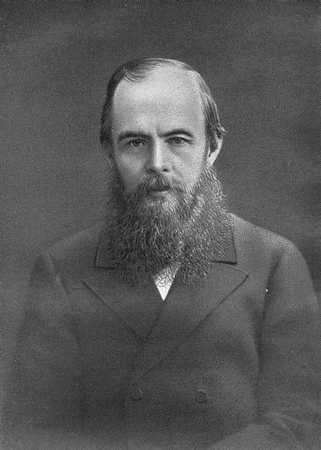
Н
Н––Й («Маленький
герой»), таинственный «молодой человек» — настоящий, в отличие
от m-ra M*, «соперник» Маленького
героя, ибо
его-то, как оказалось, и любит m-me M*,
из-за которой бедный влюблённый мальчик не спит ночами и совершает
подвиги.
Маленький герой, преодолев себя, помогает своей возлюбленной и более
счастливому сопернику, играет роль пажа…
НАСТАСЬЯ («Бесы»),
служанка Степана Трофимовича Верховенского.
Бесконечно
преданная хозяину, ухаживающая за ним как за ребёнком. Она настолько
входит в
интересы Степана Трофимовича, что тот даже ей, когда другого
«конфидента» под
рукой не оказывается, секреты выдаёт, чтобы посоветоваться. Так, он
поделился с
Настасьей своими «сомнениями» по поводу своей предстоящей женитьбы на Дарье
Павловне Шатовой, а та тут же побежала к своей
приятельнице Алёне Фроловне, няне Лизаветы
Николаевны Тушиной, и секрет выболтала — пришлось Степану
Трофимовичу
при встрече с Лизой краснеть…
НАСТАСЬЯ («Преступление
и наказание»), кухарка и служанка Прасковьи
Павловны,
квартирной хозяйки Раскольникова. Она была
чуть не единственным
человеком, с кем общался Раскольников, запершись в своей
комнате-«гробу», и она
же порой спасала его от голодной смерти, принося остатки хозяйского
обеда.
Сказано о ней мимоходом, что она «была из деревенских баб и очень
болтливая
баба». И ещё: «Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась
неслышно,
колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж
становилось…» И
уж, конечно, с Разумихиным, как только он
появился в
жилище Раскольникова, Настасья сразу нашла общий язык и охотно
выполняла все
его приказы-поручения. Между прочим, именно Настасья чуть не помешала
Раскольникову в последний момент совершить преступление: она против
ожидания
оказалась в хозяйской кухне, когда ему необходимо было взять там топор.
И
только случайно отчаявшийся «Наполеон» чуть погодя сумел украсть другой
топор
из дворницкой.
НАСТАСЬЯ
ЕГОРОВНА («Подросток»)
— см. Дарья Онисимовна.
НАСТАСЬЯ
ИВАНОВНА («Записки
из Мёртвого дома»).
«В городе, в котором находился наш
острог, жила одна дама, Настасья Ивановна, вдова. Разумеется, никто из
нас, в
бытность в остроге, не мог познакомиться с ней лично. Казалось,
назначением
жизни своей она избрала помощь ссыльным, но более всех заботилась о нас
(То есть,
политических. — Н. Н.). Было ли в семействе у
ней
какое-нибудь подобное же несчастье, или кто-нибудь из особенно дорогих
и
близких её сердцу людей пострадал по такому же преступлению, но только
она как
будто за особое счастье почитала сделать для нас всё, что только могла.
Многого
она, конечно, не могла: она была очень бедна. Но мы, сидя в остроге,
чувствовали, что там, за острогом, есть у нас преданнейший друг. Между
прочим,
она нам часто сообщала известия, в которых мы очень нуждались. Выйдя из
острога
и отправляясь в другой город, я успел побывать у ней и познакомиться с
нею
лично. Она жила где-то в форштадте, у одного из своих близких
родственников.
Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; даже нельзя было
узнать,
умна ли она, образованна ли? Замечалась только в ней, на каждом шагу,
одна
бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, облегчить, сделать
для вас
непременно что-нибудь приятное. Все это так и виднелось в её тихих,
добрых
взглядах. Я провел вместе с другими из острожных моих товарищей у ней
почти целый
вечер. Она так и глядела нам в глаза, смеялась, когда мы смеялись,
спешила
соглашаться со всем, что бы мы ни сказали; суетилась угостить нас хоть
чем-нибудь, чем только могла. Подан был чай, закуска, какие-то сласти,
и если б
у ней были тысячи, она бы, кажется, им обрадовалась только потому, что
могла бы
лучше нам угодить да облегчить наших товарищей, оставшихся в остроге.
Прощаясь,
она вынесла нам по сигарочнице на память. Эти сигарочницы она склеила
для нас
сама из картона (уж Бог знает как они были склеены), оклеила их
цветочной
бумажкой, точно такою же, в какую переплетаются краткие арифметики для
детских
школ (а может быть, и действительно на оклейку пошла какая-нибудь
арифметика).
Кругом же обе папиросочницы были, для красоты, оклеены тоненьким
бордюрчиком из
золотой бумажки, за которою она, может быть, нарочно ходила в лавки.
“Вот вы
курите же папироски, так, может быть, и пригодится вам”, — сказала она,
как бы
извиняясь робко перед нами за свой подарок... Говорят иные (я слышал и
читал
это), что высочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший
эгоизм.
Уж в чём тут-то был эгоизм — никак не пойму…»
Прототипом доброй вдовы
послужила Н. С. Крыжановская.
НАСТЕНЬКА («Белые
ночи»), главная героиня повести; 17-летняя «премиленькая
брюнетка», с
«хорошенькими маленькими ручками», при первой встрече с Мечтателем
— в «премиленькой жёлтой шляпке и в кокетливой чёрной мантильке».
Мечтателю,
который спас её от какого-то похотливого прохожего, она поведала
краткую
историю свой жизни: она сирота, живёт со слепой бабушкой в маленьком
собственном домике, бабушка два года назад пришпилила её к своей юбке
булавкой,
но это не помешало Настеньке влюбиться в Жильца,
который
поселился у них в мезонине. Год назад он вынужден был уехать в Москву
по своим
делам, обещал ровно через год вернуться и жениться на ней. Вот
Настенька и
гуляла по ночным улицам Петербурга, ожидая жениха, ибо сверх срока уже
минуло
три дня. Для Настеньки всё кончится благополучно — жених появится, а
влюбившийся в неё Мечтатель согласится быть только другом. Добрая
Настенька в
прощальном письме к нему восклицает: «О Боже! если б я могла любить вас
обоих
разом!..»
НАЩОКИН
Ипполит Александрович («Подросток»),
знакомый князя Сергея Петровича
Сокольского. Повествователь (Аркадий Долгорукий)
видит его впервые в доме князя Серёжи, когда
сам
находится на положении незваного гостя и остро подмечает особое
отношение
хозяина к новому гостю: «Это был один важный гость, с аксельбантами и
вензелем,
господин лет не более тридцати, великосветской и какой-то строгой
наружности.
известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на
любезность и
кажущееся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя
настолько,
что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было…»
НЕЗВАНОВА
Анна (Неточка) («Неточка
Незванова»),
заглавная героиня романа, от имени
которой ведётся повествование, дочь Матушки,
падчерица Ефимова, воспитанница сначала князя Х—го,
затем Александры Михайловны.
Когда ей было 2 года,
умер её отец, бедный
чиновник, и мать вышла замуж за музыканта Ефимова, которого Неточка
полюбила
всем сердцем. Отчим, возомнив себя гением, загубил свой талант, спился
и погиб,
перед этим сгубив (и, вероятно, в прямом смысле слова убив) свою
несчастную
жену, мать Неточки. К слову, именно матушка, горячо ею любимая,
придумала ей
это уменьшительное имя (Анна — Аннета — Аннеточка — Неточка). Оставшись
круглой
сиротой, девочка волею случая попадает в дом князя Х—го, где испытывает
все
перипетии сладкой и мучительной дружбы со своенравной младшей дочерью
князя — Катей. Вскоре она переходит жить к
старшей дочери князя, Александре
Михайловне, где становится сначала свидетельницей, а затем и активной
участницей семейной драмы: муж Александры Михайловны, Пётр
Александрович, тиранит бедную женщину, не в силах простить её
давнее
любовное увлечение. Неточка находит в романе Вальтера Скотта прощальное
письмо
некоего О. С. к Александре Михайловне и, когда Пётр
Александрович
застаёт её за чтением этого письма и обвиняет её в распутстве (дескать,
получает
тайком письма от любовника), Неточка вначале не отрицает этого, чтобы
не выдать
Александру Михайловну, а затем обвиняет её мужа в лицемерии и
жестокости и
собирается покинуть навсегда их дом, где прожила восемь счастливых лет.
Кстати,
это, может быть, самая характерная черта Неточки — брать чужую вину на
себя: в
своё время она поступила так, когда отдала деньги отчиму и решила
сказать
матушке, что потеряла их; был ещё случай, уже в доме князя Х—го, когда
Катя
провинилась (пустила свирепого бульдога Фальстафа
к запретной
двери Княжны-старушки), а Неточка взяла вину
на себя и
была сурово наказана…
В финале законченной части
романа Неточке
исполнилось шестнадцать. Судя по последним фрагментам опубликованного в
«Отечественных записках» варианта,
девушка должна была покинуть
дом Александры Михайловны, начать самостоятельную жизнь и стать
певицей,
«артисткой» (у неё обнаружился голос). Вероятно, её творческая
артистическая
судьба, в противовес судьбе отчима Ефимова, должна была исполниться и
осуществиться в полной мере.
В описании детства Неточки
отразились отдельные
моменты биографии В. М. Достоевской
(Карепиной).
НЕИЗВЕСТНЫЙ («Честный
вор», «Ёлка и свадьба»),
рассказчик, от имени которого, в виде
«записок», написаны эти два рассказа. Он служит где-то в «должности»,
холост,
жил всегда скромно и совсем уединённо, вдвоём с кухаркой Аграфеной,
пока та не подыскала жильца Астафия Ивановича:
«Я вообще
живу уединённо, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого;
выхожу я
редко. Десять лет прожив глухарём, я, конечно, привык к уединению. Но
десять,
пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же
Аграфеной, в той же холостой квартире, — конечно, довольно бесцветная
перспектива! И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей —
благодать
небесная! <…> Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между
своими.
Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел
рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке
моего
житья-бытья такой рассказчик был просто клад…» В «Ёлке и свадьбе»
упоминается,
что Неизвестный — молодой человек. Здесь он становится невольным
свидетелем
сластолюбивых поползновений Юлиана Мастаковича
и своим
уничижительным смехом заставляет старого развратника краснеть и
злиться. Да и вообще
в «Ёлке и свадьбе» сам материал рассказа, его тон, изображение
сладострастного
Юлиана Мастаковича опосредованно позволяют судить о благородстве и
чистоте души
Неизвестного.
НЕЛЛИ (Елена)
(«Униженные и
оскорблённые»), внучка старика Смита,
законная дочь князя Валковского. При первой
встрече она
поразила Ивана Петровича своим видом: «Я
разглядел её
ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького
роста, худая,
бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче
сверкали её
большие чёрные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый,
дырявый
платок, которым прикрывала свою, ещё дрожавшую от вечернего холода,
грудь.
Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые чёрные волосы
были
неприглажены и всклочены…»
И тут же повествователь
штрихами набрасывает
характер и судьбу девочки, развёрнутые потом, на протяжении романа, в
подробностях: «Это был характер странный, неровный и пылкий, но
подавлявший в
себе свои порывы; симпатичный, но замыкавшийся в гордость и
недоступность. Всё
время, как я её знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем
своим,
самою светлою и ясною любовью, почти наравне с своею умершею матерью, о
которой
даже не могла вспоминать без боли, — несмотря на то, она редко была со
мной
наружу и, кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со
мной о
своём прошедшем; даже, напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в
этот день,
в продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий,
прерывавших
рассказ её, она передала мне всё, что наиболее волновало и мучило её в
её
воспоминаниях, и никогда не забуду я этого страшного рассказа.
<…> Это
была страшная история; это история покинутой женщины, пережившей своё
счастье;
больной, измученной и оставленной всеми; отвергнутой последним
существом, на
которое она могла надеяться, — отцом своим, оскорбленным когда-то ею и
в свою
очередь выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это
история
женщины, доведённой до отчаяния; ходившей с своею девочкой, которую она
считала
ещё ребёнком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей
милостыню;
женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале <…> Это был
странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях
выжившего из ума
старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей,
несмотря
на своё детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые
годы своей
обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история, одна из тех
мрачных и
мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно,
сбываются под тяжёлым петербургским небом, в тёмных, потаённых
закоулках
огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма,
сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений,
среди
всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни...»
После смерти матери Нелли,
«вдовы Зальцман»,
девочка попала во власть хозяйки дома, в подвале которого они ютились,
грязной
сводни мадам Бубновой, которая уже начала
наряжать её в
кисейные платьица и заставлять «выходить к гостям», но Ивану
Петровичу с помощью Маслобоева удалось
вырвать Елену (так станут её называть) из лап
сводни, некоторое время
она жила у него дома (успев полюбить бедного, одинокого и доброго Ивана
Петровича первой горячей любовью, вплоть до ревности к Наташе
Ихменевой), а затем согласилась жить у стариков Ихменевых,
успела
смягчить сердце Николая Сергеевича Ихменева
рассказом о
страданиях своей матери, проклятой отцом, и тот простил свою дочь
Наташу. Нелли
же вскоре умерла, так и не выполнив сознательно завещание матери —
пойти к
отцу, князю Валковскому, и передать ему её предсмертное письмо с
призывом
признать дочь…
Примечательно, что Нелли —
подвержена эпилепсии,
которой страдал после каторги сам Достоевский. Вот строки из романа,
относящиеся к Елене, в которых чрезвычайно много личного и
автобиографического:
«…после сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое
время не
могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и
теперь:
сделав над собой чрезвычайное усилие, чтоб выговорить мне что-то, и
догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала
отирать мои
слёзы <…> Было ясно: с ней без меня был припадок, и случился он
именно в
то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка,
она, вероятно,
долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается
с
бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь
страхи…»
Кроме Нелли этой «священной болезнью» отмечены в мире Достоевского ещё
четыре
персонажа — Мурин, князь Мышкин, Кириллов и Смердяков.
НЕЛЮДОВ
Николай Парфёнович («Братья
Карамазовы»),
судебный следователь, как уточняет Повествователь,
— молодой человек, «всего два месяца тому
прибывший к нам из Петербурга». В день убийства Фёдора
Павловича
Карамазова он как специально оказался в доме исправника Михаила
Макаровича Макарова и совсем не случайно: «Николай же Парфёнович
Нелюдов
даже ещё за три дня рассчитывал прибыть в этот вечер к Михаилу
Макаровичу, так
сказать, нечаянно, чтобы вдруг и коварно поразить его старшую девицу
Ольгу
Михайловну тем, что ему известен её секрет, что он знает, что сегодня
день её
рождения и что она нарочно пожелала скрыть его от нашего общества, с
тем чтобы
не созывать город на танцы. Предстояло много смеху и намёков на её
лета, что она
будто бы боится их обнаружить, что теперь, так как он владетель её
секрета, то
завтра же всем расскажет, и проч. и проч. Милый, молоденький человечек
был на
этот счёт большой шалун, его так и прозвали у нас дамы шалуном, и ему,
кажется,
это очень нравилось. Впрочем он был весьма хорошего общества, хорошей
фамилии,
хорошего воспитания и хороших чувств и хотя жуир, но весьма невинный и
всегда
приличный. С виду он был маленького роста, слабого и нежного сложения.
На
тоненьких и бледненьких пальчиках его всегда сверкали несколько
чрезвычайно
крупных перстней. Когда же исполнял свою должность, то становился
необыкновенно
важен, как бы до святыни понимая своё значение и свои обязанности.
Особенно
умел он озадачивать при допросах убийц и прочих злодеев из
простонародья и
действительно возбуждал в них если не уважение к себе, то всё же
некоторое
удивление…»
Именно Нелюдов первым нарушил
в Мокром уединение Дмитрия Карамазова и Аграфены Светловой
и
пристрастно их допрашивал по всей следовательской науке, заранее
уверенный в их
виновности. Молоденький следователь ещё не совсем стал «Нелюдовым»
(«Нечеловековым»), ещё не утратил способность смущаться и краснеть.
Характерна
в этом плане сцена увоза измученного допросами Дмитрия Карамазова из
Мокрого,
когда арестованный хотел попрощаться с ним за руку, но тот руку свою
спрятал за
спину: «— Следствие ещё не заключилось, — залепетал Николай Парфёнович,
несколько сконфузясь, — продолжать будем ещё в городе, и я конечно с
моей
стороны готов вам пожелать всякой удачи... к вашему оправданию...
Собственно же
вас, Дмитрий Фёдорович, я всегда наклонен считать за человека, так
сказать,
более несчастного, чем виновного... Мы вас все здесь, если только
осмелюсь
выразиться от лица всех, все мы готовы признать вас за благородного в
основе
своей молодого человека, но увы! увлеченного некоторыми страстями в
степени
несколько излишней...
Маленькая фигурка Николая
Парфёновича выразила под
конец речи самую полную сановитость. У Мити мелькнуло было вдруг, что
вот этот
“мальчик” сейчас возьмёт его под руку, уведёт в другой угол и там
возобновит с
ним недавний ещё разговор их о “девочках”…»
Вероятно, со временем Нелюдов
станет в своих
следовательских делах совершенным «инквизитором» (от лат.
inguisitio —
расследование) вроде Порфирия Петровича из «Преступления и
наказания».
НЕМЕЦ («Крокодил»),
хозяин крокодила Карльхена. Деловитость этого
немца-гастролёра, говорящего с чудовищным акцентом, особенно проявилась
после
того, как его отвратительный Карльхен проглотил Ивана
Матвеевича:
«Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила
пятьдесят
тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный
дом в
Гороховой и при нём собственную аптеку и, вдобавок, — чин русского
полковника…»
И когда с ним попытались спорить, он обиделся: «— Безумны! — вскричал
немец
обидевшись, — нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль
польковник, потому што показаль крокодиль, а в нём живой гоф-рат
[чиновник]
сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нём живой гоф-рат
сидиль! Я
чрезвышайно умны шеловек и ошень хочу быль польковник!..»
В определённой мере
прототипом этого персонажа
послужил немец Гебгардт, который в 1864 г. действительно показывал
в
Пассаже живого крокодила, а позже основал в Петербурге Зоологический
сад.
НЕУСТРОЕВ («Записки
из Мёртвого дома»), арестант, промышлявший в остроге «шитьём
женских
башмаков и выделкой кож». Это он погубил «лучшего друга» Достоевского (Горянчикова)
— Культяпку:
«Культяпкин мех
чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им
бархатные
зимние полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и
полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. Бедный
Культяпка!..» За горькой иронией автора угадывается большая боль. В
книге Ш. Токаржевского «Каторга» (1912)
рассказывается о том,
как после гибели Культяпки Достоевский нашёл новую бездомную собаку,
дал ей
кличку Суанго, а живодёру Неустроеву сразу же дал два рубля, дабы тот
не
покушался на мех собаки. Неустроев это пообещал и обещание выполнил,
чем,
косвенно, как бы искупил свою вину за Культяпку, так как Суанго спас
впоследствии Достоевскому жизнь, выбив из его рук чашку с отравленным
молоком,
которую подсунули ему в госпитале Ломов и его
сообщники.
Полное имя этого арестанта — Филипп Неустроев.
НЕФЕДЕВИЧ
Аркадий Иванович («Слабое
сердце»),
сослуживец, сожитель по квартире и ближайший
друг Васи Шумкова. Рассказчик называет его в
отличие от
товарища полным именем-отчеством, иронично отказавшись пояснить, почему
так
делает. Но затем становится ясно, что, хотя друзья и оба молоды, оба
люди
восторженные и мечтательные, но всё же сильный и здоровый Аркадий
Иванович,
более рассудительный и практичный, выступает в роли как бы старшего
брата
слабого и духом, и телом Васи. Впоследствии черты, намеченные в этом
образе,
будут развиты в образе Разумихина из «Преступления
и наказания».
НЕЦВЕТАЕВ («Записки
из Мёртвого дома»), арестант, артист острожного театра.
«Благодетельный
помещик вышел в адъютантском мундире, правда очень стареньком, в
эполетах, в фуражке
с кокардочкой и произвёл необыкновенный эффект. На эту роль было два
охотника,
и — поверят ли? — оба, точно маленькие дети, ужасно поссорились друг с
другом
за то, кому играть: обоим хотелось показаться в офицерском мундире с
эксельбантами! Их уж разнимали другие актёры и присудили большинством
голосов
отдать роль Нецветаеву, не потому, что он был казистее и красивее
другого и
таким образом лучше бы походил на барина, а потому, что Нецветаев
уверил всех,
что он выйдет с тросточкой и будет так ею помахивать и по земле
чертить, как
настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке Отпетому и не
представить,
потому настоящих господ он никогда и не видывал. И действительно,
Нецветаев,
как вышел с своей барыней перед публику, только и делал, что быстро и
бегло
чертил тоненькой камышовой тросточкой, которую откуда-то достал, по
земле, вероятно
считая в этом признаки самой высшей господственности, крайнего
щегольства и
фешени. Вероятно, когда-нибудь ещё в детстве, будучи дворовым,
босоногим
мальчишкой, случилось ему увидать красиво одетого барина с тросточкой и
плениться его уменьем вертеть ею, и вот впечатление навеки и
неизгладимо
осталось в душе его, так что теперь, в тридцать лет от роду,
припомнилось всё,
как было, для полного пленения и прельщения всего острога. Нецветаев
был до
того углублён в своё занятие, что уж и не смотрел ни на кого и никуда,
даже
говорил, не подымая глаз, и только и делал, что следил за своей
тросточкой и за
её кончиком…» Кроме барина, Нецветаев играет в других пьесах роли
трактирщика,
мельника, но тоже, по сравнению с истинными талантами Баклушиным
и Поцейкиным, без всякого блеска.
НИГИЛИСТКА (<«Борьба
нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)»>), главная
героиня. В
ремарке дан исчерпывающий портрет: «Нигилистка. 22 года, стрижена.
Особа
путешествующая. Слушала лекции; делала ответы; видала виды. Хитра и
пронырлива.
Фанатична. Брюнетка, стройна, недурна очень и знает это. Напоминает
осу. Любит
горькое. Пропагандирует где попало, даже на лестницах».
НИКИФОРОВ
Степан Никифорович («Скверный
анекдот»),
тайный советник, бывший начальник Ивана Ильича
Пралинского и Семёна Ивановича
Шипуленко. Именно у него собрались три генерала по случаю
новоселья хозяина
и его дня рождения, заспорили за шампанским о человеколюбии,
либерализме,
демократии, новых веяниях в отношениях между начальниками и
подчинёнными и т. п.,
в результате чего генерал Пралинский вскоре оказался на свадьбе мелкого
чиновника из своего департамента. Портрет хозяина дома, старого
холостяка 65-ти
лет дан в «полный рост»: «Два слова о нём: начал он свою карьеру мелким
необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять
сряду, очень
хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звёзды,
хотя
имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни
было поводу
своё собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не
пришлось
сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был
эгоист;
был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не
любил
неряшества и восторженности, считая её неряшеством нравственным, и под
конец
жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и
систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у
людей
получше, но ещё смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее
время, если
не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых
часов и по
целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под
стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличной
и выбритой,
казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить ещё долго и
держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно
комфортное:
он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали
превосходнейшим человеком…»
И далее сообщается, что была
одна только страсть у
генерала Никифорова — иметь свой «барский» дом. Желание, наконец,
осуществилось, дом с садом на Петербургской стороне был куплен, по
случаю чего
впервые он и пригласил двух гостей на свой день рождения, который ранее
утаивал
от всех. Хозяин-«ретроград» подливал и подливал шампанского в бокал
горячащегося Пралинского, который пытался убедить его в необходимости
гуманного, человеколюбивого отношения к подчинённым, так что вышел Иван
Ильич
от него совершенно готовым «на подвиги».
НИКОДИМ ФОМИЧ («Преступление
и наказание»), квартальный
надзиратель, капитан. Раскольников видит его в
момент первого посещения участка,
вызванный туда повесткой из-за долгов квартирной хозяйке. Одна из
посетительниц
участка, Луиза Ивановна, выходя, «в дверях
наскочила
задом на одного видного офицера, с открытым свежим лицом и с
превосходными
густейшими белокурыми бакенами». Это и был Никодим Фомич. Он, в отличие
от
своего подчинённого поручика Пороха, к
посетителям
конторы (в том числе и Раскольникову) относится добродушно, с отеческой
благосклонностью. Недаром в финале Раскольников хотел было идти с
«повинной» к
Никодиму Фомичу на дом, но в последний момент решил испить горькую чашу
до дна
и отправился в контору к поручику Пороху.
Прототипом этого героя,
возможно, послужил И. Н. Пикар.
НИКОЛАЙ (отец Николай) («Братья Карамазовы»),
игумен (настоятель) мужского монастыря.
«Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперёд на середину
комнаты. Это
был высокий, худощавый, но всё ещё сильный старик, черноволосый, с
сильною
проседью, с длинным постным и важным лицом…» Он выступает в роли
примирителя и
оплота порядка в монастыре, разделившегося на два лагеря — сторонников старца
Зосимы и сторонников отца Ферапонта.
Невозмутимое
величие игумена особенно
проявилось в сцене скандала, который устроил у него на обеде Фёдор
Павлович Карамазов.
НИКОЛАЙ
СЕМЁНОВИЧ («Подросток»),
муж Марьи Ивановны, хозяин
квартиры в Москве, где жил Аркадий Долгорукий,
автор
письма-комментария к роману («Запискам» Подростка).
Персонаж этот в какой-то мере является alter ego самого
Достоевского. Писатель в своих романах пытался
объяснять настолько новое и не устоявшееся, что современники порою даже
не
понимали его, и ему приходилось в «Дневнике писателя»
и в
письмах растолковывать свои произведения, угаданные и зафиксированные
им типы.
В данном же случае Достоевский вынужден был в ткань художественного
произведения вставить разъяснения и, даже
можно сказать, оправдания своего творческого
метода в выборе и
обработке материала. «Подросток» ещё печатался в «Современнике»,
а, по отзывам критики и откликам читателей, автору уже было ясно, что
его опять
не совсем понимают. Продолжая работать над романом, он заносит для
памяти в
записную книжку: «В финале Подросток: “Я давал читать мои записки
одному
человеку, и вот что он сказал мне” (и тут привести мнение автора,
то
есть моё
собственное)…»(16,
409) Что это за мнение? От имени своего героя, Николая
Семёновича,
Достоевский, намекая, в первую очередь, на Л. Н. Толстого,
с выстраданной убеждённостью констатирует: «Если бы я был русским
романистом и
имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового
дворянства,
потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен
хоть вид
красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе
для
изящного воздействия на читателя. <…>
Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!
Работа неблагодарная и без
красивых форм. Да и типы
эти, во всяком случае — ещё дело текущее,
а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные
ошибки,
возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы
слишком
много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать
лишь в
одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и...
ошибаться…»
И далее Николай Семёнович
высказывает подспудную
мысль Достоевского, что роман «Подросток» («Записки» Аркадия
Долгорукого) при
всех художественных недостатках, всё же останется в литературе, будет
понят и
оценён, сыграет свою роль: «Но такие “Записки”, как ваши, могли бы,
кажется
мне, послужить материалом для будущего художественного произведения,
для будущей
картины — беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба
дня и
настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже
для
изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то и понадобятся
подобные
“Записки”, как ваши, и дадут материал — были бы искренни, несмотря даже
на всю
их хаотичность и случайность... Уцелеют по крайней мере хотя некоторые
верные
черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка
тогдашнего
смутного времени, — дознание, не совсем ничтожное, ибо из подростков
созидаются
поколения...»
Возможно, прообразом Николая
Семёновича послужил Н. И. Билевич.
НИЛЬСКИЙ (князь Нильский)
(«Игрок»), соперник Генерала
в любви к m-lle
Blanche,
с которым она всё грозилась уехать: по
характеристике бабушки (Тарасевичевой)
— «плюгавенький в очках». Уж на что ловка авантюристка Бланш и то
обмишулилась:
«Она жестоко обманулась в расчётах на князя! Эта маленькая катастрофа
произошла
уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол, и ещё на неё же
рассчитывал, чтобы занять у неё денег под вексель и поиграть на
рулетке.
Blanche с негодованием его выгнала…»
НУРРА («Записки
из Мёртвого дома»), арестант-кавказец, с которым сразу
подружился Горянчиков (Достоевский): «Зато
другой, Нурра, произвёл на меня
с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был
человек ещё
нестарый, росту невысокого, сложенный, как Геркулес, совершенный
блондин с
светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами
от
постоянной прежней езды верхом. Всё тело его было изрублено, изранено
штыками и
пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к
немирным
горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его
все
любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно,
спокоен и
ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской
жизни и
возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и
вообще
всем, что было нечестно; но ссор не затевал и только отворачивался с
негодованием. Сам он во всё продолжение своей каторги не украл ничего,
не
сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен.
Молитвы
исполнял он свято; в посты перед магометанскими праздниками постился
как
фанатик и целый ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в честность
его
верили. “Нурра — лев”, — говорили арестанты; так за ним и осталось
название
льва. Он совершенно был уверен, что по окончании определённого срока в
каторге
его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой. Мне кажется,
он бы
умер, если бы её лишился. В первый же мой день в остроге я резко
заметил его.
Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых,
угрюмых
и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришёл в
каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь
мне в
глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он
по-русски очень
плохо. Вскоре после того он опять подошёл ко мне и опять, улыбаясь,
дружески
ударил меня по плечу. Потом опять и опять, и так продолжалось три дня.
Это
означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль
меня, что
он чувствует, как мне тяжело знакомиться с острогом, хочет показать мне
свою
дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и
наивный
Нурра!..»
Прототипом этого героя
послужил Н. Оглы.
О
ОБНОСКИН
Павел Семёнович («Село
Степанчиково и его
обитатели»), сын Анфисы
Петровны Обноскиной. Полковник Ростанев,
представляя заочно племяннику Сергею Александровичу
обитателей Степанчикова, упоминает: «Есть городские гости: Павел
Семёныч
Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то
зрелое,
знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и, вдобавок,
превосходной нравственности; строгая мораль!..» Сергею Александровичу,
однако
ж, этот господин не глянулся: «Один из двух мужчин, бывших в комнате,
был ещё
очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором
давеча
упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно
не
понравился: всё в нём сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм
его,
несмотря на шик, был как-то потёрт и скуден; в лице его было что-то как
будто
тоже потёртое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся
клочковатая
бородёнка, очевидно, предназначены были предъявлять человека
независимого и,
может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с
какою-то выделанною
язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в
лорнет;
но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал своё стёклышко и
как
будто трусил…»
Этот Обноскин (с явно
«говорящей», как и многие
персонажи повести, фамилией) по наущению матери воспользовался идеей Мизинчикова
и украл-увёз сумасшедшую богачку Татьяну
Ивановну, чтобы на ней жениться, но их догнали и прожект лопнул.
Любопытно его признание после этого Сергею Александровичу: «Не судите
меня...
Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более
имею
наклонности к литературе — уверяю вас; а это всё маменька...»
ОБНОСКИНА
Анфиса Петровна («Село
Степанчиково и его
обитатели»), мать Павла
Семёновича Обноскина. Она вместе с сыном была «из города» и
гостила
почему-то в Степанчиково. Рассказчик Сергей
Александрович
увидел её впервые «за чаем»: «Заинтересовала меня тоже одна толстая,
совершенно
расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко,
кажется,
нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то
почерневшие и
обломанные кусочки; однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться,
модничать и
чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и
беспрерывно
наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька…»
Именно
«маменька» научила сыночка украсть идею Мизинчикова
о
похищении богатой невесты Татьяны Ивановны.
Предприятие,
правда, закончилось неудачей.
ОВРОВ («Неточка
Незванова»), «помощник в делах» Петра
Александровича.
В опубликованной части романа персонаж этот играет эпизодическую роль:
появляясь в самом финале, он говорит Неточке, что должен сказать её
нечто
важное и назначает встречу на завтра. В ранней редакции романа, где
повествование
велось от лица автора, а не героини, герой-мечтатель
Овров должен был играть значительную роль: в частности, именно он
должен был
обнаружить прощальное письмо неизвестного к Александре
Михайловне и прочесть в строках письма близкую и понятную ему
повесть о
братстве двух любящих сердец, союз которых «был бы прекрасен»… К работе
над
«Неточкой Незвановой» Достоевский приступил сразу после окончания
работы над
повестью «Белые ночи» и, скорей всего, Овров
был задуман
автором как человек очень близкий по духу и складу характера Мечтателю.
Судя по всему, в следующей части романа Овров уже должен был активно
действовать.
ОКЕАНОВ («Господин
Прохарчин»), сосед Прохарчина, писарь,
«в своё
время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семёна
Ивановича» (а
Прохарчин был, как известно, фаворитом у хозяйки дома Устиньи
Фёдоровны). Именно Океанов в финале стал случайным свидетелем
того, как Зимовейкин с Ремневым
пробрались ночью за
ширму к больному Прохарчину, после чего и произошла-случилась странная
кончина
бедного Семёна Ивановича. И именно этот герой рассказа и дальше не
растерялся:
«…жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и тихий
жилец,
вдруг обрёл всё присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил
шапку и
под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли
своего
последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь
отворилась и
внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин
благородной наружности
с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом
Ильичом его
причет и все кто следует и сзади всех — смущённый господин Океанов…»
ОЛИМПИАДА («Подросток»),
подруга Анны Андреевны Версиловой, появляется
в эпизоде,
когда Аркадий Долгорукий впервые видит в доме князя
Сокольского свою сестру: «Вошли две дамы, обе
девицы,
одна — падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или
что-то в
этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая
(замечу
для будущего) и сама была с деньгами <…> Я глядел на неё довольно
пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста
девица, полная
и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из
нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со
складкой.
Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле,
потому что
хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом,
ничего
замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю
в такой
подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем.)…»
Чуть позже
князь сообщит-намекнёт Подростку, что эта
Олимпиада,
кажется, неравнодушна к Версилову, и
практически на этом,
несмотря на обещания повествователя (Аркадия), участие девушки в
развитии
сюжета закончится.
ОЛЯ («Подросток»),
«учительница», самоубийца; дочь Дарьи Онисимовны
(Настасьи Егоровны). Об Оле читатель впервые
узнаёт по её
газетному объявлению, которое цинично комментирует Версилов:
«Это — это уже чистый голод, это уже последняя степень нужды.
Трогательна тут
именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в
учительницы, да
вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний
рубль в
газету и печатает, что подготовляет во все учебные заведения и, сверх
того,
даёт уроки арифметики…»
Аркадий
Долгорукий увидел её
накануне её самоубийства, придя по делу к Васину
(мать с
дочерью были его соседками, жили через стенку), и становится невольным
свидетелем истерики Оли в меблированных номерах, причём выясняется, что
истерика эта связана каким-то образом с Версиловым: «Вдруг раздался
опять
давешний визг, неистовый, визг озверевшего от гнева человека, которому
чего-то
не дают или которого от чего-то удерживают. <…> Обе соседки
выскочили в
коридор, одна, как и давеча, очевидно удерживая другую. <…>
Молодая
женщина стояла в коридоре, пожилая — на шаг сзади её в дверях. Я
запомнил
только, что эта бедная девушка была недурна собой, лет двадцати, но
худа и
болезненного вида, рыжеватая <…> губы её были белы, светло-серые
глаза
сверкали, она вся дрожала от негодования…» И чуть дальше ещё
характерный штрих:
«Одета она была ужасно жидко: на тёмном платьишке болтался сверху
лоскуточек
чего-то, долженствовавший изображать плащ или мантилью; на голове у ней
была
старая, облупленная шляпка-матроска, очень её не красившая…» И уже
после смерти
Оли ещё раз отмечено-упомянуто будет автором (Подростком), что
«покойница
положительно была недурна собой».
Пока в одной комнате остывает
труп бедной Оли, в
соседней мать, чуть придя в себя, рассказывает, машинально прихлёбывая
чай,
Аркадию и хозяйке меблированных комнат всю историю-жизнь своей дочери.
В
Петербург они приехали, надеясь получить давнишний долг с одного купца
––
покойник муж так и не дождался. Увы, напрасная затея –– и адвокат не
помог,
только последние деньжонки извели. Больше того, подлый купчишка-должник
осмелился гнусное предложение Оле сделать –– обещал рублей сорок
заплатить.
Потом, когда Оля наивное объявление в газету от отчаяния дала, сначала
её чуть
в публичный дом не затащили «работать», а потом и Версилов
появился-возник со
своей «помощью»… Последней каплей стал рассказ-донос негодяя Стебелькова
о сластолюбивой сущности Версилова (который в данном-то случае
действительно и
бескорыстно почти –– только ради моральной выгоды –– хотел помочь!) и
его,
Стебелькова, гнуснейшее со своей стороны предложение Оле. И — финал
горестно-жуткого рассказа матери: «Вот как я, надо быть, захрапела это
вчера,
так тут она выждала, и уж не опасаясь, и поднялась. Ремень-то этот от
чемодана,
длинный, всё на виду торчал, весь месяц, ещё утром вчера думала:
“Прибрать его
наконец, чтоб не валялся”. А стул, должно быть, ногой потом отпихнула,
а чтобы
он не застучал, так юбку свою сбоку подложила. И должно быть, я
долго-долго
спустя, целый час али больше спустя, проснулась: “Оля! — зову, — Оля!”
Сразу
померещилось мне что-то, кличу её. Али что не слышно мне дыханья её с
постели
стало, али в темноте-то разглядела, пожалуй, что как будто кровать
пуста, —
только встала я вдруг, хвать рукой: нет никого на кровати, и подушка
холодная.
Так и упало у меня сердце, стою на месте как без чувств, ум помутился.
“Вышла,
думаю, она”, — шагнула это я, ан у кровати, смотрю, в углу, у двери,
как будто
она сама и стоит. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты точно
тоже
глядит на меня, не шелохнется... “Только зачем же, думаю, она на стул
встала?”
— “Оля, — шепчу я, робею сама, — Оля, слышишь ты?” Только вдруг как
будто во
мне всё озарилось, шагнула я, кинула обе руки вперёд, прямо на неё,
обхватила,
а она у меня в руках качается, хватаю, а она качается, понимаю я всё и
не хочу
понимать... Хочу крикнуть, а крику-то нет... Ах, думаю! Упала на пол с
размаха,
тут и закричала…»
Предсмертную записку Оля
оставила более чем
странную: «Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой
жизненный
дебют. Огорчавшая вас Оля». Аркадию Долгорукому она кажется
«юмористической», а
Версилов, напротив, убеждён, что слова употреблены несчастной девушкой
без всякого
юмора –– «простодушно и серьёзно», и это, мол, характерная черта
нынешней
молодёжи.
В образе-судьбе бедной
домашней учительницы Оли
писатель художественными средствами как бы исследовал-показал грань
суицидальной темы, заявленной в «Дневнике писателя»
1873 г.,
–– доведение до самоубийства, самоубийство вынужденное, самоубийство от
нищеты,
попранного человеческого достоинства, от безысходного отчаяния,
сведение счётов
с жизнью человека «униженного и оскорблённого». И выбор орудия
самоказни
естествен и обычен для подобных случаев –– позорная петля. Как ни
кощунственно
это звучит, но, вероятно, Оля –– одна из самых
«совершенно-художественных»
самоубийц Достоевского. Н. А. Некрасов,
редактор «Отечественных записок», ещё не
дочитав роман в
рукописи до конца, приходит к автору своего журнала и товарищу юности,
дабы
выразить «свой восторг» (в письме к А. Г. Достоевской
в Старую Руссу от 9 февраля 1875 г.
Достоевский
подчёркивает-выделяет эти два слова волнистой линией), а сцену
самоубийства Оли
он вообще находит «верхом совершенства». Сухарь Н. Н. Страхов
в письме к автору «Подростка» эмоционально сообщает, что опубликованные
главы
имеют в столичной читающей публике несомненный успех и особо отмечает:
«Эпизод
повесившейся девушки удивительно хорош и вызвал всеобщие похвалы…» Один
из
самых внимательных читателей Достоевского, а с 1877 г. и его
знакомый К. Н. Бестужев-Рюмин,
историк, академик и
общественный деятель, записывает в дневнике: «Читал <…>
“Подростка” (что
за гениальная история Оли!)…»
Да что читатели и слушатели
(Достоевский не раз
впоследствии читал отрывок из романа о смерти Оли на публичных чтениях)
––
критики, даже самые недоброжелательно настроенные к автору, почти
единодушно
отмечали историю Оли как несомненную удачу автора. Сам Достоевский, в
1876 г.,
готовя материалы для выпуска ДП, почти целиком
посвящённого
теме самоубийства, записывает в рабочей тетради: «Кстати рассказ о
повесившейся
в “Подростке”. К извинению его то, что я горжусь этим рассказом…»
ОПИСКИН Фома
Фомич («Село Степанчиково и
его обитатели»),
приживальщик в доме Крахоткиных, а затем тиран
в доме Ростаневых.
О прошлом этого героя рассказчик Сергей Александрович
пишет кратко: «Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик
из
хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком
неизвестности. Я,
впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних
обстоятельствах этого
достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и
где-то служил,
где-то пострадал и уж, разумеется, “за правду”. Говорили ещё, что
когда-то он
занимался в Москве литературою. Мудрёного нет; грязное же невежество
Фомы
Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но
достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что,
наконец, он
принуждён был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было
унижения, которого бы он не перенёс из-за куска генеральского хлеба.
Правда,
впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно
сделался
вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что,
согласясь
быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был
его
благодетель; что это был человек великий, непонятный и что одному ему,
Фоме,
доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он,
Фома, и
изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и
иные живые
картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного
болезнями
страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае
подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, ещё
будучи
шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине
генеральского
дома. Как он это устроил — трудно представить неспециалисту в подобных
делах.
Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? —
неизвестно.
Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома
удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных
иван-яковличей и
тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах
иными
барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги,
толковал с
красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал
свою
жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал
будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал
ближнего.
Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и ещё
беспощаднее
тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему ещё
большее
уважение в глазах генеральши и всех её домочадцев…»
И чуть далее дан подробнейший
психологический
портрет Фомы уже в роли тирана особенно интересный тем, что в
формировании
натуры Опискина большую роль, оказывается, играла его бесплодная тяга к
литературе, графомания: «Представьте же себе человечка, самого
ничтожного,
самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно
бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и
вдобавок не
одарённого решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь
оправдать своё
болезненно раздражённое самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич
есть
олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия
особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как
обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорблённого,
подавленного
тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор
выдавливающего
из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего
и
говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою
сумасшедшею мнительностью. <…> Он был когда-то литератором и был
огорчён
и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича —
разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не
удалось
ещё и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал
одни
только щелчки вместо жалования или что-нибудь ещё того хуже. Это мне,
впрочем,
неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома
действительно
сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые
стряпались
там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных “Освобождений
Москвы”, “Атаманов Бурь”, “Сыновей любви, или русских в 1104-м году” и
проч. и
проч., романов, доставлявших в своё время приятную пищу для остроумия
барона
Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия
жалит
иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых.
Фома Фомич
был огорчён с первого литературного шага и тогда же окончательно
примкнул к той
огромной фаланге огорчённых, из которой выходят потом все юродивые, все
скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нём
эта
уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и
удивлений. Он
и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только
чтоб
где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и
похвастаться
— вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя
начал
хвалить. <…> Я знаю, он серьёзно уверил дядю, что ему, Фоме,
предстоит
величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к
совершению
которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по
ночам,
или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее
сочинение в
душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и
затрещит
вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая
славой,
пойдёт в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о
счастии
отечества. <…> Теперь представьте же себе, что может сделаться из
Фомы,
во всю жизнь угнетённого и забитого и даже, может быть, и в самом деле
битого,
из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорчённого
литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота,
несмотря
на всё предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы-хвастуна, а при удаче
нахала,
из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и
захваленного
благодаря идиотке-покровительнице и обольщённому, на всё согласному
покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих
странствований? О
характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого
непонятен и
успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась
пословица:
посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он своё прошедшее!
Низкая
душа, выйдя из-под гнёта, сама гнетёт. Фому угнетали — и он тотчас же
ощутил
потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими
ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих
шутов.
Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего
молока,
тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, ещё не быв
свидетелями
всех этих проделок, а слушая только россказни, считали всё это за чудо,
за
наваждение, крестились и отплёвывались…»
Опискин, по существу, —
главный герой всей повести,
но глава 7-я 1-й части ещё и именная — «Фома Фомич». Именно здесь дан
краткий,
но колоритный портрет этого типа, которого рассказчик, наконец, увидел:
«Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал
ростом, белобрысый
и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На
подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он
вошёл
тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная
самоуверенность
изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению
моему, он
явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но всё-таки шлафроке и,
вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом,
был
отложен а l’enfant [фр. по-детски]; это
придавало Фоме
Фомичу чрезвычайно глупый вид…»
Фома в повести препятствует
женитьбе Егора Ильича Ростанева на гувернантке Настеньке
Ежевикиной, всячески унижает-терроризирует и самого полковника
Ростанева, и гостей его, не говоря уже о слугах, но в итоге до самой
смерти
живёт окружённый всеобщим вниманием, заботой и поклонением как
благодетель и
великий человек. Психоз этот не закончился даже после смерти Опискина и
в
эпилоге сообщается: «Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле
генеральши; над
ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещрённый
плачевными
цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька
благоговейно
заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь
не могут
говорить о нём без особого чувства; припоминают каждое его слово, что
он ел,
что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность…»
Имя и фамилия героя явно
намекают на его неудачную
связь с литературой — граФОМАн ОПИСКИН. В образе Фомы и его творчестве
спародированы «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя
и отчасти его личность периода последних лет жизни.
ОПЛЕВАНИЕВ («Господин
Прохарчин»), сосед Прохарчина, о
котором только и
сказано, что он «скромный и хороший человек» — в действии практически
не
участвует.
ОРДЫНОВ
Василий Михайлович («Хозяйка»),
молодой
учёный. «Его пожирала страсть самая
глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человека и не
выделяющая
таким существам, как Ордынов, ни одного угла в сфере другой,
практической,
житейской деятельности. Эта страсть была — наука. Она снедала покамест
его
молодость, медленным, упоительным ядом отравляла ночной покой, отнимала
у него
здоровую пищу и свежий воздух, которого никогда не бывало в его душном
углу, и
Ордынов в упоении страсти своей не хотел замечать того. Он был молод и
покамест
не требовал большего. Страсть сделала его младенцем для внешней жизни и
уже
навсегда неспособным заставить посторониться иных добрых людей, когда
придет к
тому надобность, чтоб отмежевать себе между них хоть какой-нибудь угол.
Наука
иных ловких людей — капитал в руках; страсть Ордынова была обращенным
на него
же оружием.
В нём было более
бессознательного влечения, нежели
логически отчётливой причины учиться и знать, как и во всякой другой,
даже
самой мелкой деятельности, доселе его занимавшей. Ещё в детских летах
он
прослыл чудаком и был непохож на товарищей. Родителей он не знал; от
товарищей
за свой странный, нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и
грубость,
отчего сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу ударился в
исключительность.
Но в уединённых занятиях его никогда, даже и теперь, не было порядка и
определённой системы; теперь был один только первый восторг, первый
жар, первая
горячка художника. Он сам создавал себе систему; она выживалась в нём
годами, и
в душе его уже мало-помалу восставал ещё тёмный, неясный, но как-то
дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветлённую форму, и
эта
форма просилась из души его, терзая эту душу; он ещё робко чувствовал
оригинальность, истину и самобытность её: творчество уже сказывалось
силам его;
оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был ещё
далёк, может
быть, очень далёк, может быть, совсем невозможен!..»
Да, в этой ранней повести
впервые появился у
Достоевского тип мечтателя. И Ордынов не только мечтатель-романтик,
как, к
примеру, герой «Белых ночей», по своей сути
Ордынов — предвестник Раскольникова. Это — одинокий,
одичавший в своём
уединении мыслитель, идеолог… В Ордынове можно усмотреть и
штрихи-намётки Подпольного человека, тоже
одного из «капитальнейших» типов в
мире Достоевского. Впрочем, в этом мире все подпольные герои —
мечтатели; а все
мечтатели — подпольные. Вот и Ордынов, закончив курс в университете и
получив
малую толику грошового наследства, снял первый попавшийся угол и на два
года
забился-залёг в нём, как в подполье. Правда, Достоевский, ещё,
разумеется, и не
предполагавший, что через полтора десятка лет напишет-создаст «Записки
из подполья», только обозначил-назвал в «Хозяйке» целое
громадное
явление русской действительности и одну из основополагающих черт,
говоря
по-современному, менталитета русского думающего человека — подпольность
и
пояснил это на примере Ордынова так: «Там (В своём углу. — Н.
Н.)
он как будто заперся в монастыре, как будто отрешился от света. Через
два года
он одичал совершенно…» Конечно, у Ордынова ещё и в помине нет
подпольной
философской идеи-платформы Подпольного человека, как нет и стремления в
своём
«монастырском» уединении (как в будущем, допустим, у Алёши
Карамазова в настоящем монастыре) найти душевный покой, обрести
истинную
веру, познать мир Божий и себя в этом мире. Ордынова всего лишь
пожирала и
требовала уединения всепоглощающая страсть к науке. К какой конкретно —
понять
из текста повести трудно: что-то похожее на философию, а может быть,
даже и на
социологию, политэкономию или что-то в этом роде. Именно в период
работы над
повестью Достоевский и начал посещать кружок М. В. Петрашевского,
так что немудрено, если герой его в своём подполье-«монастыре» вслед за
Фурье, Оуэном
и Сен-Симоном
вынашивал-создавал свою теорию социального переустройства мира. «Он сам
создавал себе систему; она выживалась в нём годами, и в душе его уже
мало-помалу восставал ещё темный, неясный, но как-то дивно-отрадный
образ идеи,
воплощенной в новую, просветлённую форму, и эта форма просилась из души
его,
терзая эту душу; он ещё робко чувствовал оригинальность, истину и
самобытность
её: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло.
Но срок
воплощения и создания был ещё далёк, может быть, очень далёк, может
быть,
совсем невозможен!..» В конце повести будет упомянуто, что в самое
последнее время,
перед тем, как выйти из подполья, Ордынов в «нетворческие минуты», то
есть для
отдыха, писал ещё и некое сочинение по истории церкви.
И вот этот подпольный
мечтатель-утопист,
вынужденный в силу обстоятельств переменить квартиру, как бы очнулся,
ожил и
мгновенно, забыв о мировых проблемах, заболел проблемами
эгоистично-личными. Он
влюбился страстно, безумно и — вот именно! — болезненно в молодую жену
хозяина
новой квартиры старика Мурина — Катерину.
Вернее, он влюбился в неё ещё раньше, увидев-встретив совсем случайно в
церкви,
и именно из-за неё, преодолев сопротивление Мурина, снял у них угол.
Восторженно-мечтательный Ордынов тоже, как и герой «Двойника»
господин Голядкин, — ярко выраженный
неврастеник, то и
дело подумывает о самоубийстве, близок к нему. Мало этого, он чуть было
не
становится и убийцей — он явно хотел зарезать опьяневшего и уснувшего
Мурина,
уже и нож схватил, да муж Катерины вовремя очнулся. В конце концов,
когда
страстная болезненная любовь Ордынова к Катерине терпит крах, и он с
квартиры
Муриных съезжает, то спасает его от окончательной гибели (как некогда и
Мурина!) — вера, религия, обострившаяся в нём истовая набожность: он
целые часы
проводит в церкви, молится до полного изнеможения, вымаливает у Бога
душевного
спокойствия и сил пережить-выдюжить разлуку с любимой и тяжесть
одиночества…
Прототипом Ордынова в
какой-то мере послужил
товарищ юности Достоевского И. Н. Шидловский.
ОРЁЛ («Записки
из Мёртвого дома»), «герой» главы «Каторжные животные».
«Проживал у нас
тоже некоторое время в остроге орёл (карагуш), из породы степных
небольших
орлов. Кто-то принёс его в острог раненого и измученного. Вся каторга
обступила
его; он не мог летать: правое крыло его висело по земле, одна нога была
вывихнута. Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая
любопытную
толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою
жизнь.
<…> прожил у нас месяца три и во всё время ни разу не вышел из
своего
угла. Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него
собаку.
<…> Орёл защищался из всех сил когтями и клювом и гордо и дико,
как
раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных,
приходивших его
рассматривать. Наконец всем он наскучил; все его бросили и забыли, и,
однако ж,
каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и черепок
с водой.
Кто-нибудь да наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел
несколько
дней; наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях. Мне
случалось не раз издали наблюдать его. Не видя никого и думая, что он
один, он
иногда решался недалеко выходить из угла и ковылял вдоль паль, шагов на
двенадцать от своего места, потом возвращался назад, потом опять
выходил, точно
делал моцион. Завидя меня, он тотчас же изо всех сил, хромая и
прискакивая,
спешил на своё место и, откинув назад голову, разинув клюв,
ощетинившись,
тотчас же приготовлялся к бою. Никакими ласками я не мог смягчить его:
он
кусался и бился, говядины от меня не брал и всё время, бывало, как я
над ним
стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым,
пронзительным
взглядом. Одиноко и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не
примиряясь
ни с кем. Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не
заботился,
никто и не поминал о нём месяца два, но вдруг во всех точно явилось к
нему
сочувствие. Заговорили, что надо вынести орла. “Пусть хоть околеет, да
не в
остроге”, — говорили они…» Вольнолюбивую птицу выпустили, и она ушла,
ковыляя,
в траву, не оглядываясь — подальше от острога… После этого рассказа
подлинная
фамилия арестанта Орлова, неукротимо
стремящегося на
свободу, вполне выглядит символическим псевдонимом.
ОРЛОВ («Записки
из Мёртвого дома»), арестант, с которым Достоевский (Горянчиков)
познакомился в госпитале. «Особенно помню я мою встречу с одним
страшным
преступником. В один летний день распространился в арестантских палатах
слух,
что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова, из беглых
солдат, и
после наказания приведут в палаты. <…> Давно уже я слышал о нём
чудеса.
Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, —
человек с
страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во
многих
убийствах и был приговорён к наказанию палками, сквозь строй. Привели
его уже
вечером. В палате уже стало темно, и зажгли свечи. Орлов был почти без
чувств,
страшно бледный, с густыми, всклокоченными, чёрными как смоль волосами.
Спина
его вспухла и была кроваво-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним
арестанты,
переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали
лекарство, точно
они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На
другой
же день он очнулся вполне и прошёлся раза два по палате! Это меня
изумило: он
прибыл в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошёл зараз целую
половину
всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию
только
тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило
преступнику
неминуемой смертью. Кроме того, Орлов был малого роста и слабого
сложения, и к
тому же истощён долгим содержанием под судом. Кому случалось встречать
когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их
изможденные, худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на
то, Орлов
быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно
помогала
натуре. Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из
любопытства я
познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу
сказать,
что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного
характером
человека, как он. <…> Это была наяву полная победа над плотью.
Видно
было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал
всякие муки и
наказания и не боялся ничего на свете. В нём вы видели одну бесконечную
энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной
цели.
Между прочим, я поражён был его странным высокомерием. Он на всё
смотрел как-то
до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а
так,
как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое бы могло
подействовать на него одним авторитетом. На всё он смотрел как-то
неожиданно
спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло удивить его.
И хотя
он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но
нисколько не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость
свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и
как-то
странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо
отвечал
мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорей выходить остальное
наказание, и что
он боялся сначала, перед наказанием, что не перенесёт его. “Но теперь,
—
прибавил он, подмигнув мне глазом, — дело кончено. Выхожу остальное
число
ударов, и тотчас же отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги
бегу!
Непременно бегу! Вот только б скорее спина зажила!” И все эти пять дней
он с
жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же
он был
иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговорить об его
похождениях.
Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно.
Когда же
понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нём хоть
какого-нибудь
раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как
будто я
вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с
которым
нельзя и рассуждать, как с большим. Даже что-то вроде жалости ко мне
изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым
простодушным смехом, без всякой иронии, и, я уверен, оставшись один и
вспоминая
мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться.
<…>
В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть
на меня
как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед
ним
низшее. Назавтра же его вывели к вторичному наказанию… <…> Через
два дня
после выписки из госпиталя он умер в том же госпитале, на прежней же
койке, не
выдержав второй половины…»
Орлов — подлинная фамилия
этого персонажа. О нём
Достоевский упоминает и в черновых записях к ДП
1876 г.
«Но то-то и есть, что лишение свободы есть самое страшное истязание,
которое
почти не может переносить человек. Я это видел (Орлов), они не боялись
ни
плетей, ни сквозь строя. Одно лишь лишение свободы ужасно. Вот на этом
принципе
и должна быть построена система наказаний, а не на принципе истязаний» [ПСС,
т. 24, с. 96—97]
ОСЕТРОВ («Подросток»),
отставной мичман, стряпчий. Он появляется в эпизоде, когда Татьяна
Павловна Пруткова, не стерпев, впервые ударила свою кухарку Марью.
«Чухонка и тут не произнесла даже ни
малейшего звука, но
в тот же день вошла в сообщение с жившим по той же чёрной лестнице,
где-то в
углу внизу, отставным мичманом Осетровым, занимавшимся хождением по
разного
рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах, из
борьбы за
существование <…> Мичман, долговязый и худощавый молодой человек,
начал
было длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил
всю
залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили
заплатить
обиженной Марье пятнадцать рублей. Та, не откладывая, тут же вынула
портмоне и
стала отдавать деньги, причём тотчас подвернулся мичман и протянул было
руку
получить, но Татьяна Павловна почти ударом отбила его руку в сторону и
обратилась к Марье…»
ОСИП («Записки
из Мёртвого дома»), арестант, повар. «Аким Акимыч ещё с самого
начала, с
первых дней, рекомендовал мне одного из арестантов — Осипа, говоря, что
за
тридцать копеек в месяц он будет мне стряпать ежедневно особое кушанье,
если
мне уж так противно казённое и если я имею средства завести своё. Осип
был один
из четырёх поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни,
хотя,
впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой
выбор; а
приняв, можно было хоть завтра же опять отказаться. Повара уж так и не
ходили
на работу, и вся должность их состояла в печении хлеба и варке щей.
Звали их у
нас не поварами, а стряпками (в женском роде), впрочем, не из презрения
к ним,
тем более что на кухню выбирался народ толковый и по возможности
честный, а
так, из милой шутки, чем наши повара нисколько не обижались. Осипа
почти всегда
выбирали, и почти несколько лет сряду он постоянно был стряпкой и
отказывался
иногда только на время, когда его уж очень забирала тоска, а вместе с
тем и
охота проносить вино. Он был редкой честности и кротости человек, хотя
и пришёл
за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высокий, здоровый
малый, о
котором уже я упоминал; трус до всего, особенно до розог, смирный,
безответный,
ласковый со всеми, ни с кем никогда не
поссорившийся, но
который не мог не проносить вина, несмотря на всю свою трусость, по
страсти к
контрабанде. Он вместе с другими поварами торговал тоже вином, хотя,
конечно,
не в таком размере, как, например, Газин, потому что не имел смелости
на многое
рискнуть. С этим Осипом я всегда жил очень ладно. <…> Осип
стряпал мне несколько
лет сряду всё один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был
зажарен —
это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом
я в
несколько лет почти не сказал двух слов. Много раз начинал
разговаривать с ним,
но он как-то был неспособен поддерживать разговор: улыбнется, бывало,
или
ответит да или нет,
да и только.
Даже странно было смотреть на этого Геркулеса семи лет от роду…»
ОСТАФЬЕВ («Двойник»),
писарь, сослуживец Якова Петровича Голядкина.
«…из-за
угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и
раскрасневшаяся
фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом
тотчас же в
сени. Это был писарь Остафьев, человек весьма знакомый господину
Голядкину,
человек отчасти нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную
струну
Остафьева и смекнув, что он, после отлучки за самонужнейшей
надобностью,
вероятно, стал ещё более прежнего падок на гривенники, герой наш
решился их не
жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за
Остафьевым,
кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный
уголок, за
огромную железную печку…» Голядкин, желая получить от писаря-пьянчужки
сведения
о положении дел в канцелярии после воцарения там Голядкина-младшего,
подкупает его гривенниками, но в преданности подкупаемого отнюдь не
уверен:
«Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей
стороне.
Только вот дело в чём: точно ли он на моей стороне; может быть, они его
тоже с
своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут.
Ведь
разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец!..»
Так и
получилось, Остафьев гривенник взял, но больше не вышел к Голядкину, а
выслал
вместо себя писаря Писаренко.
ОСТРОЖСКИЙ («Записки
из Мёртвого дома»), унтер-офицер, сошедший с ума. «В это утро в
заводе
М—цкий и Б. познакомили меня с проживавшим там надсмотрщиком,
унтер-офицером Острожским. Это был поляк, старик лет шестидесяти,
высокий,
сухощавый, чрезвычайно благообразной и даже величавой наружности. В
Сибири он
находился с давнишних пор на службе и хоть происходил из простонародья,
пришёл
как солдат бывшего в тридцатом году войска, но М—цкий и Б. его
любили и
уважали. Он всё читал католическую Библию. Я разговаривал с ним, и он
говорил так
ласково, так разумно, так занимательно рассказывал, так добродушно и
честно
смотрел. С тех пор я не видал его года два, слышал только, что по
какому-то
делу он находился под следствием, и вдруг его ввели к нам в палату
(Госпитальную.
— Н. Н.) как сумасшедшего. Он вошёл с визгами,
с хохотом
и с самыми неприличными, с самыми камаринскими жестами пустился плясать
по
палате. Арестанты были в восторге, но мне стало так грустно... Через
три дня мы
все уже не знали, куда с ним деваться. Он ссорился, дрался, визжал, пел
песни,
даже ночью, делал поминутно такие отвратительные выходки, что всех
начинало
просто тошнить. Он никого не боялся. На него надевали горячешную
рубашку, но от
этого становилось нам же хуже, хотя без рубашки он затевал ссоры и лез
драться
чуть не со всеми. В эти три недели иногда вся палата подымалась в один
голос и
просила главного доктора перевести наше нещечко в другую арестантскую
палату.
Там в свою очередь выпрашивали дня через два перевести его к нам. А так
как сумасшедших
случилось у нас разом двое, беспокойных и забияк, то одна палата с
другою
чередовались и менялись сумасшедшими. Но оказывались оба хуже. Все
вздохнули
свободнее, когда их от нас увели наконец куда-то...»
Достоевского, которого тема
сумасшествия
интересовала с первых шагов в творчестве (стоит вспомнить только Голядкина!),
не мог не поразить этот случай.
ОТЦЕУБИЙЦА («Записки
из Мёртвого дома»), арестант из дворян, послуживший
впоследствии
прототипом Дмитрия Карамазова в «Братьях
Карамазовых». В первой главе о нём сказано: «Особенно не выходит
у меня
из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего
шестидесятилетнего
отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно
беспутного,
ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом,
был
хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства.
Преступление
было разыскано только через месяц. Сам убийца подал заявление в
полицию, что
отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провёл самым
развратным
образом. Наконец, в его отсутствие, полицию нашла тело. На дворе, во
всю длину
его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в
этой
канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь,
приставлена
к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был
лишён
дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я
жил с ним,
он был в превосходнейшем, в весёлейшем расположении духа. Это был
взбалмошный,
легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем
не
глупец. Я никогда не замечал в нём какой-нибудь особенной жестокости.
Арестанты
презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за
дурь, за то,
что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своём отце.
Раз,
говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он
прибавил:
“Вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на
какую
болезнь”. Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это
феномен;
тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и
нравственное
уродство, ещё не известное науке, а не просто преступление. Разумеется,
я не
верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были
знать все
подробности его истории, рассказывали мне всё его дело. Факты были до
того
ясны, что невозможно было не верить.
Арестанты слышали, как он
кричал однажды ночью во
сне: “Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!..”
А уже в конце повествования
(ч. 2, гл. 7)
Достоевский от своего имени (издателя) сообщил читателям поразившие и
его
сведения: «В первой главе “Записок из Мёртвого дома” сказано несколько
слов об
одном отцеубийце, из дворян. Между прочим, он поставлен был в пример
того, с
какой бесчувственностью говорят иногда арестанты о совершённых ими
преступлениях.
Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в своём
преступлении, но
что, судя по рассказам людей, знавших все подробности его истории,
факты были
до того ясны, что невозможно было не верить преступлению. Эти же люди
рассказывали
автору “Записок”, что преступник поведения был совершенно беспутного,
ввязался
в долги и убил своего отца, жаждая после него наследства. <…> На
днях
издатель “Записок из Мёртвого дома” получил уведомление из Сибири, что
преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной
работе
напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что
настоящие
преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобождён из
острога.
Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия...
Прибавлять больше нечего.
Нечего говорить и
распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о
загубленной ещё
смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен,
слишком
поразителен сам по себе.
Мы думаем тоже, что если
такой факт оказался
возможным, то уже самая эта возможность прибавляет ещё новую и
чрезвычайно
яркую черту к характеристике и полноте картины Мёртвого дома…»
Настоящая фамилия мнимого
отцеубийцы — Д. Н. Ильинский.
ОФИЦЕР (<«Борьба
нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)»>), главный
герой пьесы-фельетона. В ремарке дан его полный
и колоритный портрет:
«Офицер, впрочем отставной и из Костромы, 40 лет; собой как и все;
капельку толст. Со шпагой и при своём капитале. Желает исполнить закон.
Но
слышал о нигилистах и, прежде чем выбрать невесту, желает истребить их
всех до
единого. С этой целью прибыл в столицу. Читал не много, слышал не ясно.
О
фиктивном браке не имеет понятия, что и составляет фатум статьи. Губит
себя
излишним благородством души, хотя заметно неостроумен. Пылок.
Поражается умом.
При всякой новой идее стоит как баран, увидавший новые ворота; но,
раскусив
противуречие, мигом весь краснеет как индийский петух и сердится.
Вообще глупая
смесь бараньего и петушьего. Любит сладкое. Замечательно добрый
человек».
ОФИЦЕР («Записки
из подполья»), случайный «враг» Подпольного
человека,
унизивший его мимоходом в трактире. «Я стоял у биллиарда и по неведению
заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и
молча, — не
предуведомив и не объяснившись, — переставил меня с того места, где я
стоял, на
другое, а сам прошёл как будто и не заметив. Я бы даже побои простил,
но никак
не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не
заметил.
Чёрт знает что бы дал я тогда
за настоящую, более
правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную!
Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я
же
человек низенький и истощённый. Ссора, впрочем, была в моих руках:
стоило
попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и
предпочёл... озлобленно стушеваться. <…> Не думайте, впрочем, что
я
струсил офицера от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя
беспрерывно
трусил на деле, но — подождите смеяться, на это есть объяснение; у меня
на всё
есть объяснение, будьте уверены.
О, если б этот офицер был из
тех, которые
соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ
(увы! давно
исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик
Пирогов у
Гоголя, — по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с
штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною, — да и вообще
считали
дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали
довольно,
особенно в случае десяти вершков росту…»
Подпольный человек заболевает
маниакальной идеей
отомстить офицеру, начинает следить за ним, узнаёт фамилию, адрес,
пишет даже о
нём «абличительную повесть» и в «Отечественные
записки»
отправляет (но её не напечатали), на дуэль собирается его вызвать… В
конце концов,
он отомстил-таки офицеру — при встрече на Невском проспекте не уступил
ему, как
обычно, дорогу. Перед этим он долго и тщательно готовился к этому
«подвигу»,
даже денег выпросил взаймы у своего начальника Антона
Антоновича
Сеточкина и енотовый воротник на шинели заменил на приличный
бобрик. В
результате же получил только лишь пребольной толчок в плечо: офицер
«дуэли»
этой не заметил или сделал вид, что не заметил и даже не оглянулся.
Однако ж
главное, что сам Подпольный человек «был в восторге» и вспоминает об
этом
случае спустя почти пятнадцать лет с ностальгической ноткой: «Офицера
потом
куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он
теперь,
мой голубчик? Кого давит?..»
ОФИЦЕР («Скверный
анекдот»), гость на свадьбе Пселдонимова.
Генерал Пралинский очутился на свадьбе в самом
разгаре, когда все
плясали кадриль, все кружились и скакали: «Мелькнул ещё перед ним,
длинный как
верста, офицер какой-то команды…» Этот офицер — один из самых развязных
гостей,
в танцах особенно: «Отличался, во-первых, офицер: он особенно любил
фигуры, где
оставался один, вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно:
весь,
прямой как верста, он вдруг склонялся набок, так что вот, думаешь,
упадёт, но с
следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем
же косым
углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьёзнейшее и танцевал в
полном
убеждении, что ему все удивляются…» Затем Пралинский подметил, что
невеста с
удовольствием на горячего офицера посматривает и охотно с ним танцует —
«офицер
был ещё не стар и носил мундир какой-то команды». Впрочем, и
догадываться было
не трудно, даже «Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему
питает
отвращение и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него».
Разумеется, и
с генералом Пралинским офицер, поначалу было присмиревший, держал затем
себя
весьма вольно и даже запанибрата.
<<< Персонажи (М)
|

 Николай
Наседкин
Николай
Наседкин